Новый год чехи встретили со смешанными чувствами надежды и тревоги. Не потому, что в экономике дела идут неважно и чехи со страхом думают о завтрашнем дне. С этим как раз все в порядке: по показателю роста ВВП Чехия на первом месте в Европе (5 с лишним процентов), а по уровню безработицы – на последнем (3 с небольшим). По экономической цифири, кроме Китая, эту страну попросту не с кем сравнивать.
Но ведь есть еще и другая цифирь, психологического свойства. Так получилось, что в чешской истории летоисчисление, заканчивающееся на цифру 8, бывает то ли замечательно хорошим, то ли из рук вон плохим предзнаменованием. Это замечено не вчера: уже в XIX веке годы 48-й и 68-й ознаменовались городскими беспорядками типа революций с последующим поражением в правах. В XX столетии дурная примета стала правилом: всякий раз это были годы исключительно крутых перемен. Одни перемены были к добру, другие означали начало лихолетья, а некоторые умудрялись в течение нескольких месяцев поменять знак на противоположный. В 1918-м возникла Чехословакия, попутно обрушив Австро-Венгерскую империю. Время самосбывающихся надежд продолжалось всего лишь два десятилетия. В 1938-м страна была оккупирована гитлеровской Германией, наступило темное время. Еще через десять лет случился коммунистический переворот, время стало беспросветно черным. В 1968-м пришла "Пражская весна", занявшая название у музыкального фестиваля и давшая имя всем веснам будущего. А в августе того же года в Прагу вошли советские танки, давители и гонители людей и идей. Грустно закончился год, который начинался так славно.
В то новогоднее застолье ровно полвека назад чехословаки поднимали тост за надежду, которая уже маячила на ближнем горизонте. На затянувшемся на две недели пленуме ЦК чехословацкой компартии сталинские сироты схлестнулись с реформистами. Жить по-старому тогда считалось неприличным, обитатели центра Европы давно выросли из коротких штанишек "младших братьев", которых высокомерные заезжие степняки поучали, как доить коров и из чего делать ракеты. Всем надоело ездить отдыхать в Пицунду, когда хотелось в Бибионе. В коммунизм напрочь перестали верить. Литературным кумиром в Праге стал Франц Кафка, а не Демьян Бедный. Председателем Союза писателей Чехословакии был избран Эдуард Голдштюккер, специалист по Кафке, а "беднологи" исчезли как класс. В кино поднялась "чешская волна", мастера которой – Милош Форман, Иржи Менцель, Вера Хитилова – быстро переросли масштаб собственной страны, а потом и соцлагеря. У большинства жителей возникло ощущение, что у них есть право на большее, чем недомерочная коммунистическая мечта. В атмосфере общества было разлито предпраздничное весеннее настроение, хотя на дворе стоял январь.
Воплощением всего косного и застойного считался персек партии Антонин Новотный. Был он примером партийного функционера в широкополой шляпе и кургузом пиджачке, но диктатором оказался никаким: при нем-то и при его попустительстве все вольнодумство и началось. Реформистский партийный молодняк в возрасте под пятьдесят был настроен на то, чтобы Новотного снимать. Проще всего было это сделать под лозунгом восстановления якобы поруганного национального равенства. В действительности никакого неравенства между чехами и словаками не было – ни в учреждениях, ни в армии. В государстве царило двуязычие, каждый говорил своем на родном. Не попранная национальная гордость, а банальное местничество и кумовство требовали дополнительных функций для словаков. Тактически преподнести проблему как национальную было умно, уловка сработала, и консервативные словацкие партийные деятели районного масштаба, впоследствии в подавляющем большинстве переметнувшиеся на сторону оккупантов, в январе проголосовали за смещение Новотного. Тем более что под рукой был подходящий кадр – лидер словацких коммунистов.
Январский пленум был, собственно, начат еще в декабре предыдущего 1967 года. Когда выяснилось, что споры вокруг "главного" перерастают в политический кризис, Новотный вызвал в Прагу верховную инстанцию международного коммунистического движения – дорогого Леонида Ильича. Тот действительно прибыл, прошамкал что-то невразумительное, развернулся и улетел со словами, ставшими крылатыми: "Это ваше дело!" Дело по-чешски – это пушка, артиллерийское орудие. В ту пору над Брежневым было легко глумиться, но впоследствии оказалось, что дело-то не вполне чешское. Для того чтобы в августе могли заговорить советские пушки, Брежнев целую доктрину соорудил, имени себя. Но это было потом, а в начале января было ясно только то, что Брежнев Новотного не поддержал.
У него были на то серьезные основания. Антонин Новотный советского вождя не уважал, считал его мужланом, при случае публично давал это понять. Надменный чех вообще советского коммунистического первородства не признавал. Уже в 1960 году он объявил, что строительство социализма в Чехословакии успешно завершено, сменил название страны на ЧССР, чем изрядно обидел "кремлевских", считавших, что "социалистическими" могут быть только советские республики, а остальным положено быть в лучшем случае "народно-демократическими". Чтобы подчеркнуть независимость от Москвы, свою партийную должность Новотный переименовал из "генерального" в "первого" секретаря – так выглядело демократичнее. На международных форумах он вел себя не по чину, всячески выпячивая собственные достижения. Но всего сильнее сказались личные мотивы брежневской неприязни: в споре между ним и Алексеем Косыгиным пражский однопартиец выбрал сторону последнего – и ошибся.
Зато советский вождь любил как родного, называл запросто Сашей и часто повторял: "Наш Саша не подкачает". Дубчек отлично говорил по-русски, был потомственным коммунистом рабоче-крестьянской закваски, вырос в столице Киргизии городе Фрунзе, долго жил в Горьком, учился в тех же партийных школах, что и последний советский президент Горбачев. Но человеком оказался покладистым и незлобивым, не к месту улыбался, имел европейский склад ума и характера и всей своей судьбой опровергал фундаментальный посыл марксизма о том, что из каждого можно воспитать зверя, если над ним основательно поработать: Дубчек остался человеком, пусть мечтательным, недалеким и мягкосердым, но зверем не стал. Брежневских надежд Саша не оправдал.
Но это случилось позднее, а тогда, 5 января 1968 года, избранный первым секретарем ЦК КПЧ, он всерьез полагал, что является хозяином положения. Дубчек верил в то же учение, что и его кондовые советские коллеги – ну, может быть, мечтал чуток облагородить действительность, придать крокодилу человеческое лицо. Ему было невдомек, что не столько умозрительные идейные установки определяют общественное бытие, сколько бытовые навыки, привычки общежития, культура человеческих отношений. Пока министры называют своих поломоек "пани" и на "вы", пока генералы не бросают своих водителей на морозе, а приглашают их в теплый трактир и угощают пивом, демократию нельзя считать вытравленной, рано или поздно она себя покажет.
Так и получилось, Дубчека с первых же дней понесло. Поднялась волна – даже скорее не волна, а девятый вал – общественной самодеятельности и всенародной любви. Любили Дубчека и его единомышленников не из страха, а за то, что они никому не мешали жить. Приливной волной невозможно руководить, если ты не Бог. Россияне, пережившие горбачевскую перестройку, примерно представляют себе, как это выглядит, но в случае "Пражской весны" скорость процесса надо помножить на двадцать. Хотя считалось, что партия по-прежнему рулит в соответствии с январской политической линией и спускает вниз по вертикали какие-то ценные указания, она едва успевала переваривать общественные требования и задним числом оформлять самодеятельность. Стремительные преобразования той весны заслуживают отдельного анализа и давно стали предметом сотен историко-социологических изысканий, поэтому ограничусь констатацией: к лету того же года Чехословакию было не узнать.
Если, как полагают социологи, революция в фазе затвердевания всегда проявляется ограничением личных прав и гражданских свобод, то события в Чехословакии, конечно же, были контрреволюцией
Вскоре после пленума усохла и отвалилась всех раздражавшая цензура, пресса стала уникально свободной (уникально – потому что за бюджетные деньги писала и показывала все, что угодно), запретных тем не было. Стихийно складывались объединения с сугубо политической программой – вроде Клуба активных беспартийных или Клуба бывших политзаключенных (К-231, цифра означает "политическую" статью уголовного кодекса), возникли заводские советы и независимые профсоюзы, официозный комсомол распался, на его развалинах появился Союз факультетских забастовочных комитетов, были восстановлены забытые академические свободы и университетские сенаты. К маю стало понятно, что руководящую и направляющую роль компартии пора отменять – уже были поданы заявки на перерегистрацию довоенных "буржуазных" партий, в частности, социал-демократической. КПЧ пыталась сохранить управляемость процесса и приняла сугубо реформистскую Программу действий, но обществу этого уже было мало. На попытки Москвы загнать Чехословакию в стойло лучшие мастера культуры в июне ответили манифестом "Две тысячи слов", который подписали десятки тысяч граждан. Страну сносило на Запад, в центр Европы. И если, как полагают социологи, революция в фазе затвердевания всегда проявляется ограничением личных прав и гражданских свобод, то события в Чехословакии, конечно же, были контрреволюцией.
За августовским военным вторжением последовала трудная и долгая нормализация, которая восстановила кладбищенский покой в лагере мира и социализма. Полмиллиона чехов и словаков были исключены из партии. Несколько сот тысяч человек ушли за рубеж, чтобы еще через двадцать лет вернуться на родину. Советское вторжение и оккупация фактически прервали социальный эксперимент и позволили коммунистическим реформистам сохранить лицо, им как бы не дали довести до конца благородное дело. Им казалось, что они что-то важное сочиняют, но в действительности же они с первого дня работали "методом тыка". Сегодня в Чехии нет таких романтиков, которые бы всерьез изучали опыт социалистических преобразований с точки зрения их практического применения. Никто не собирается внедрять на госпредприятиях хозрасчетные методы экономиста Оты Шика, да и нет фактически госпредприятий. Никто не читает революционные записки Высшей школы марксизма-ленинизма, за которые ее ректор Милан Хюбл сел в тюрьму. Утратили всякий смысл жаркие полемики еврокоммунистов с московскими традиционалистами. Всем до фени, какое лицо больше приличествует социализму, победило осознание того, что социализм – это сдохший приблудный пес, которого надо закопать.
Забылись имена вождей "Пражской весны", их помнят разве что специалисты-историки. Когда верхушку партии и государства после ввода войск арестовали и под стражей увезли в Москву, стены домов пестрели надписями: "Мы с вами, будьте с нами!" Сегодня многие стыдятся своей тогдашней решимости положить за них жизнь. Потускнел и светлый образ Дубчека. Он последовательно разрушал репутацию каждым своим шагом. Как рыцарь контрреволюции Дубчек не состоялся. В Москве он быстро сломался и подписал Протокол о временном размещении советских войск на территории Чехословакии. Уехал из дома героем, домой вернулся предателем. Как и все прочие реформисты, позволил уболтать себя речами о том, что, оставаясь у кормила, коммунисты смогут сделать что-то большое и доброе для народа. Впрочем, не все – нашелся в делегации и "тот, который не стрелял". Председатель Национального фронта Франтишек Кригель подсунутых бумажек не подписал и напрочь отказался о чем-либо толковать с оккупантами. Ему угрожали скорым судом и мучительной смертью, но сдвинуть Кригеля не удалось. Он, а не Дубчек, своей решимостью спас честь и достоинство чехословаков.
Вернувшись на родину, Дубчек, пока его не вывели в отставку, не сняли со всех должностей и не исключили из партии, еще успел в качестве председателя Федерального собрания подписать так называемый "закон о дубинках", по которому били и разгоняли демонстрантов уже в первую годовщину оккупации. Живя в полной изоляции, фактически под домашним арестом, Дубчек не терял веры в марксистские идеалы и если и писал, то только аналитические записки о текущем моменте в Политбюро КПЧ или статьи в итальянскую газету L'Unita о грядущем торжестве "правильного коммунизма". "Хартию-77" он не подписал, считая это ниже своего достоинства, хотя хартисты и неоднократно подсылали к нему человека. Зато Франтишек Кригель подписал одним из первых.
Как и к реформам по приданию социализму человеческого лица, судьба была по-своему милостива к Александру Дубчеку. Трагическое дорожное происшествие в 1992 году, уже после социализма, оборвало его жизнь, поставив за легендой многоточие. Он не успел вторично разойтись с действительностью, общество сохранило о нем снисходительную память. Не великолепные реформы, конечно же, составляют суть "Пражской весны", не номенклатурные споры о них, а конкретные поступки отдельных людей и острое ощущение национального достоинства. Вспомнилось первичное значение подзабытого слова "свобода". Сегодня чехи сходятся в утверждении о том, что этот глоток свободы, длившийся всего полгода, позволил им пережить последующих двадцать лет тоталитарного удушья.
Ефим Фиштейн, международный обозреватель Радио Свобода
Взгляды, высказанные в рубрике "Мнение", передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции
Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода











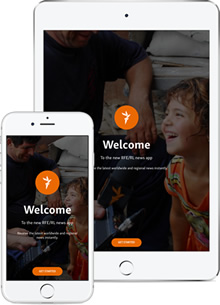

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: