Среди главных итогов прошедшего года – «черные лебеди», события и ситуации, которые невозможно просчитать. Этот термин ввел американский экономист Нассим Талеб, который занимался изучением случайностей, то есть таких событий, к которым не располагали объективные и логические предпосылки, но которые все же произошли и, более того, имели серьезные последствия. Теория «черных лебедей» Нассима Талеба показывает, что ученые, политики и финансисты переоценивают возможности своего интеллектуального инструментария, а вместе с тем – и потенциал прогнозирования событий. Уверенность человечества в собственных знаниях опережает сами знания и порождает феномен сверхуверенности.
2016 год принес много неожиданностей: от Брекзита до избрания Дональда Трампа, от теракта в Ницце до теракта в Берлине, от трагедии в Алеппо до убийства российского посла и трагедии с самолетом Ту-154 в Сочи. Казалось, что это был год так называемых «черных лебедей».
– Сегодня мы как раз попытаемся воспроизвести вертикальную структуру экспертократии, потому что у нас сегодня в студии два эксперта – это Екатерина Шульман, доцент Института общественных наук Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, и журналист Борис Грозовский.
Если возвращаться к теме «черных лебедей», непредсказуемости: Вы могли предсказать многое из того, что произошло в 2016 году – тот же Брекзит, выборы Трампа?
Шульман: От политологов чаще всего ждут прогнозов, а между тем, в пророческой деятельности всегда есть очень значительный элемент шарлатанства. Надо не предсказывать события, а рассматривать тенденции.
Идея «черных лебедей» мне представляется сомнительной. Под «черным лебедем» подразумевается некое непредсказуемое событие, которое меняет ход вещей. Если мы посмотрим на события, которые действительно меняют ход вещей, выяснится, что они были подготовлены теми тенденциями, в рамках которых они, собственно, и случились.
– Тогда давайте говорить о тех больших трендах, которые, вероятно, проявились при помощи этих событий, непредсказуемых для многих политологов и аналитиков. Нет ли такого ощущения, что гораздо выше волатильность и гораздо ниже предсказуемость всего происходящего в мире? Мы сейчас глядим в 2017-й с большим количеством вопросительных знаков, чем обычно.
Грозовский: Я тоже не поклонник Нассима Талеба, мне кажется, что это немножко шарлатанская теория. Правда в том, что мы действительно знаем намного меньше, чем нам хотелось бы, и наша прогностическая способность намного ниже, чем нам хотелось бы. В экономике она выше, но здесь ничего неожиданного не произошло и в прошлом году, кризис не был неожиданным явлением. А политика для меня, конечно, большая загадка. Среди экспертов, которых я читал перед выборами в Штатах, наверное, процента два всерьез относились к сценарию победы Трампа. Многие люди очень сильно не угадали.
– Проблема, мне кажется, не только в Трампе, но и вообще в очень большом количестве явлений, которые люди не могли предсказать.
Шульман: То, какой из кандидатов победил на американских выборах, как выяснилось, определилось небольшим количеством голосов в ряде штатов. Это свойство американской электоральной системы, которая имеет не прямые выборы, а через выборщиков, поэтому там ряд штатов имеет больше голосов, чем они должны были бы иметь, если считать по головам. Но если мы посмотрим на выборы в Америке, на референдум в Великобритании, на выборы в Центральной и Восточной Европе, то увидим приблизительно одну и ту же тенденцию, которая не появилась в 2016 году и не исчезнет в 2017-м. Используя обобщенный термин, ее можно назвать демократизацией, если под демократизацией мы понимаем расширение участия.
Грозовский: Еще один момент. Эта демократизация, мне кажется, наслоилась на то, что интеллектуальные элиты несколько чересчур забежали вперед в толерантности, в принятии других религий, сексуальной ориентации и так далее.
– Собственно, и само голосование было в большой степени протестом против пропихивания либеральным восточнопобережным истеблишментом своей повестки дня.
Шульман: Дело не в том, что одни очень прогрессивные, а другие отстали и не поспевают за ними. Дело в том, что надо применять меньше насилия. Если вы обладаете какой-то преимущественной позицией, если вам в руки что-то дано – перо, приравненное к штыку, микрофон или мегафон, то надо пользоваться им аккуратно, а не бить им по голове других людей. Слава богу, в условиях демократии эти люди могут мирным образом выразить вам свое несогласие с происходящим. Это очень хорошо.
Мы тут обсуждаем всякие внезапные революционные результаты выборов, которые переворачивают людям голову. При этом надо помнить, что мы с вами говорим о мирном легальном политическом процессе. Все наши беды и катастрофы 2016 года на уровне первого мира сводятся к тому, что на выборах соревновались две партии, и одна из них победила – ой, ну надо же, какая катастрофа! На референдуме люди проголосовали одним из двух предложенных образов – это трагедия, это конец света... Надо радоваться, что существует политический механизм, который трансформирует эти настроения в легальное, мирное политическое действие. Слава богу, что хотя бы первый мир дожил до такого рода институтов.
– К вопросу об институтах… Общий знаменатель длинных больших трендов – это крах больших институций, унаследованных от нескольких сотен лет политики, институтов модерна. С одной стороны, Евросоюз находится в очевидном кризисе в связи с Брекзитом, сирийским кризисом, кризисом беженцев и так далее. С другой стороны, традиционные партийные системы США… Мы видим одновременно и вызов Трампа, и вызов Берни Сандерса. Мне кажется, что речь идет о каком-то распаде институтов, которые не выдерживают пришествия нового человека с мобильным смартфоном.
Шульман: Я не согласна с вашим базовым тезисом. Те большие институты, о которых вы говорите, не покрываются трещинами от внешних шоков типа Трампа и Брекзита, они абсорбируют эти шоки, перерабатывают их в мирный политический процесс, они демонстрируют выдающуюся политическую устойчивость.
Терроризм страшен не непосредственным ущербом, который он наносит, а реакцией на негоЕкатерина Шульман
Меня, в частности, восхищает, каким образом Германия реагирует на теракты. Терроризм страшен не непосредственным ущербом, который он наносит (этот ущерб не сравнить с ущербом фронтальной войны в духе ХХ века), а реакцией на него. Есть вещь, известная всей политологии: теракт укрепляет центральную власть, расширяет полномочия спецслужб, сужает пространство свободы. Так было в Америке после терактов 2001 года. Вырастили собственную большую спецслужбу, национальную службу безопасности, начали несколько войн – классическая реакция.
В современной Европе мы видим, как эта реакция приобретает совершенно другие формы, не такие губительные для жизни тех, кто живет в стране, пораженной терактом.
– Хочу напомнить, что главным словом 2016 года, по версии Оксфордского словаря, стало слово «постправда». Мы переместились в некую новую информационную реальность, в которой правят фейки и тролли. Не получилось ли так, что Россия со своими медийными технологиями докрымских и крымских времен даже раньше Запада оказалась в мире постправды, постреальности, фейков, национал-популизма, троллинга?
В мире глобализации никто не может быть изолирован, все находятся в едином пространствеЕкатерина Шульман
Шульман: Может быть, лестно осознавать, что мы находимся не в изоляции, а в общем тренде. Вообще, в этом прекрасном мире глобализации никто не может быть изолирован, все находятся в едином пространстве. Можно отставать, а изолированным быть нельзя. Были ли мы первыми, или у нас были манифестные формы? Наше информационное пространство гораздо более контролируется государством, чем в любой другой стране мира, кроме Китая. Поэтому наши тролли сидят на бюджете, а не троллят сами по себе – в этом радикальное отличие.
Степень свободы у нас на самом деле ниже. Так что если мы были впереди, то в использовании этих методов, причем в довольно оригинальном их использовании государственной машиной. Обычно предполагается, что государственная машина должна быть на стороне иерархии, порядков и стабильности, должна защищаться от деструктивных тенденций, а у нас все было наоборот – действительно, некий постмодернизм, модный слоган, он же – название книжки Питера Померанцева «Ничто не правда, и все возможно» – это про условно сурковскую политику, про 2000-е годы.
Когда это все происходило, у нас было время такого нефтяного благополучия, что можно было безопасно играть в постмодернизм, можно было делать, что угодно, никто особенно не сопротивлялся. Реальность была далеко, любые конфликты снизу просто заливались большими деньгами. Поэтому можно было быть загадочным магом Алистером Кроули, которые творит разноцветные мерцающие сущности, а потом показывает их по Первому каналу, потому что можно что угодно показать по Первому каналу, а бедному зрителю особенно некуда от него спрятаться.
– Насколько Россия является пионером в этой области? В конце концов, Жириновский, российский Трамп, у нас существует уже на протяжении 25 лет.
– Где мы являемся пионерами, по крайней мере, очень «успешно» проводим эту политику – так это в пропаганде на чужих территориях. Мы взяли Крым, и это будет рассматриваться как пример того, что был регион в составе другой страны, эта другая страна не особо заботилась об интеграции этого региона в свое единое общее пространство, а мы там целенаправленно присутствовали, начиная с Лужкова и Затулина…
– Это и есть то, что определяется облачным термином «гибридная политика». Эта гибридность, которая родилась где-то в недрах пелевинских 90-х, русского пиарного постмодерна, в результате выплеснулась в мировые просторы.
Грозовский: И дальше получается, что целый регион можно брать голыми руками.
Шульман: Не надо про голые руки, мы Крым взяли так успешно благодаря превосходящему военному присутствию. Когда у тебя там стоит флот и много другого войска, твоя пропаганда сразу становится дико убедительной.
– Но в целом военный период в российской истории, который так бурно начался в феврале 2014 года, заканчивается, Путин пробил отбой, объявлена демобилизация, то есть война вытеснена на задворки общественного сознания, в Сирии происходит фактически геноцид, но это где-то там…
Войну можно продать только как гуманитарную операциюЕкатерина Шульман
Шульман: В нашем новом веке общественному мнению любой страны невозможно продать войну как войну, как это было в XIX и ХХ веке. Новые моральные стандарты не позволяют воспринимать ту идею, что кто-то где-то воюет. Войну можно продать только как гуманитарную операцию. Поэтому все стороны рассказывают, что они заняты исключительно гуманитарными операциями. Поэтому российскому телезрителю продают то, что мы привезли в Алеппо много всяких полезных продуктов и вещей. По этой самой причине летел этот самолет с артистами, с благотворителями, который рухнул.
– Какие основные угрозы вы видите в 2017 году?
Грозовский: Самая главная угроза – это если ничего не произойдет, и продолжится наше технологическое отставание от мира, выпадение из контекста. Мы сидим на нефти и газе, нефть сейчас подорожала, стоит порядка 55 долларов за баррель, а как мы будем себя чувствовать, если она вернется к 30? Не очень хорошо. Главная угроза для нас – остаться примерно там, где мы есть сейчас.
Шульман: Реальных угроз у нас две – отставание и деградация, никаких других не просматривается.













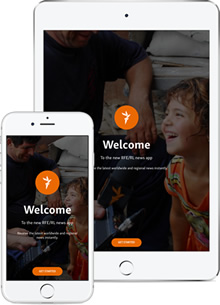

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: