Андрей Вячеславович Кураев – миссионер, общественный деятель, писатель, богослов, автор официального учебника по "Основам православной культуры". При этом он – оппонент многим иерархам Русской православной церкви, он выступал с разоблачениями гомосексуальных скандалов в некоторых приходах РПЦ, высказывал неортодоксальные суждения о группе Pussy Riot.
Его критиковали. "Пока мои самые большие неприятности, – говорит Кураев в нашей беседе, – это то, что церковные издательства не стали меня издавать. Или в Академии не дают читать лекции. Но служить – служу, сана никто не лишил меня, блог не закрыли, даже с массмедиа федеральными, кремлевскими мое сотрудничество продолжается: два раза в месяц я бываю на "Эхе Москвы", но два раза в месяц бываю на каком-нибудь прокремлевском Live News или "Русской службе новостей".
Добавим, что отец Андрей – частый гость и Радио Свобода.
Андрей Вячеславович любит собеседника огорошить – например, так: "Главное препятствие для роста христианства в мире – это сами христиане".
– Я вас приветствую в Праге. Это ведь совершенно не чужой для вас город – вы в детстве прожили здесь несколько лет.
– Для меня Прага – одна из моих родин, потому что, когда мне было 11–15 лет, родители жили здесь и работали. Все знакомые говорили: как повезло, это самый красивый город Европы! Как так? Пустили Дуньку в Европу. Впервые за границей, и сразу – самый красивый город. Я поверить в это не мог. Он же советский, наш. Такого не бывает. Сейчас, поездив по миру, по Европе, я могу сказать, что за звание самого красивого города Европы с Прагой может соперничать только Петербург.
– Судя по вашей биографии, – а я, конечно, залез в интернет, почитал, – я должен сказать, что о вас написано в интернете больше, чем об апостоле Павле. Просто жизнетворчество Андрея Вячеславовича Кураева. Как с таким началом и с таким образованием вы пришли к вере, что для этого должно было случиться, где мистический поворот?
– На самом деле, по-своему логично, легко было прийти к вере из этих условий, потому что вокруг меня не было церковных людей. Теперь я могу сказать, что, наверное, самое главное препятствие для роста христианства в мире – это сами христиане, все-таки.
– Невероятное признание!
– Церковь, Христос болеет нами, христианами. Болеет уже не первую тысячу лет, и качество христиан, конечно, печальное. Еще Златоуст в V веке говорил, что если двенадцать апостолов просветили всю Вселенную, то что должны были бы сделать мы, когда нас сейчас миллионы? Но как же мы немощны на этом фоне.
А в моем случае… Когда апостолы начинали свой путь… Вы же первый упомянули апостола Павла, не я миссионерствовать начал в этой студии. Так вот, им было в чем-то легко. Пусть империя против них, но зато у них полное единство, то, что позднее схоласты назовут эссо и эссенция – сущность и существование. То есть христианин – это апостол Павел. Павел = христианин. Нравится, не нравится, но это так. А к нам сегодня приходят и говорят: вы не смотрите на меня, как я живу, или на то, какие безобразия мы творили в истории, или что происходит сегодня в тех или иных областях церковной жизни, но Евангелие все-таки говорит о другом. То есть за две тысячи лет накопился не только добрый опыт, но и опыт разочарований в христианах, в нашей жизни, в наших проповедях, и поэтому сегодня часто приходится из минуса вытаскивать представления людей о нас и нашей вере. У апостолов – нет, они начинали от нуля, и все это тождество жизни и слова, жизни, смерти и слова – это было удивительное тождество, и им очень многое удавалось.
– А в вашем случае?
– Поскольку вокруг был вакуум исторического христианства, были только книги. А в книгах все было очень интересно. Книги из спецхрана МГУ или Ленинки, книги умных людей: отца Александра Шмемана или митрополита Антония Сурожского, Блаженного Августина или Григория Богослова, Бердяева или Флоренского.
– То есть для вас вот эта духовная тайна еще и была связана с запретным плодом, поэтому вдвойне влекла?
– Конечно. Для меня и для моего подросткового сознания это было значимо как? Логика была такая: если я вижу, что моя родная советская власть врет мне по всяким мелочам, то, может, она соврала и в том вопросе, который она же сама назвала самым главным вопросом философии, – "есть Бог или нет?". И очень многое в то время для меня психологически значила рок-опера "Иисус Христос – Суперзвезда". Я не понимал, о чем там поют, но сам факт, что это не только бабушек может интересовать, но рокеров, современную молодежь и западную культуру, там, кажется, есть чем поинтересоваться даже мне, такому умному и современному. То есть для меня это было снятие определенного табу, что за эти красные флажки можно зайти.
– То есть путь к вере может быть каким угодно?
– Есть закон логики, что из лжи следует все что угодно. Исходя из ложных посылок, можно прийти к правильному выводу. Ну, хорошо, этот закон логики Ахматова выражала: "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда". Так что из разных посылок можно прийти к очень интересным выводам.
– Вы ведь, насколько я понимаю из вашей биографии, еще студентом МГУ были, когда крестились?
– Да, у меня крещение было на четвертом курсе, на кафедре атеизма.
– Не было ли у вас проблем с начальством университетским?
– Во-первых, я это нигде не афишировал. Предположения у них были, но, надо отдать должное моей кафедре – максимум два эпизода было. Перед вручением диплома научный руководитель, недавно скончавшийся профессор Кирилл Иванович Никонов, отозвал меня в сторонку и сказал: "Андрей, мы знаем, что у вас есть духовник в Троице-Сергиевой лавре, вы туда ездите. У нас от кафедры только одна к вам просьба: не поступайте в семинарию". Я честно ответил: "Духовника у меня там нет (потому что он был в Москве, а не в Лавре)". И в семинарию идти я не собирался в том году, мои планы были через парочку лет туда идти. А при защите диплома нынешний завкафедрой, профессор Яблоков, ставя мне отличную оценку за диплом, рекомендацию Института философии, сказал: "Но имейте в виду, Андрей Вячеславович, в Институте философии тоже бывают чистки". Вот с этим добрым напутствием я покинул родную кафедру, на которую, как оказалось, мне предстояло еще вернуться через почти десять лет, но уже в качестве преподавателя, к тем же самым моим уже коллегам.
Папа помог, но не тот
– Окончили вы по кафедре истории и теории научного атеизма. В 1985 году вы стали секретарем в Московской духовной академии. Что это значит? Что делал секретарь в Духовной академии и, вообще, как туда можно было попасть? Я понимаю, что у вашего отца были какие-то связи, он был секретарем известного советского философа и администратора. Папа помог?
– Папа помог, но не тот. У нас до сих пор есть какая-то избушка, дача в глубине Тверской области, под Калязином. И когда я крестился в 1982 году, я все лето провел с родителями на даче. Без храма. За хлебом приходилось ездить в Калязин на "Метеоре", на "Ракете", километров за двадцать. Поехал туда, а там храм есть. Я думаю: в следующий раз отпрошусь за хлебом, а заодно в храм схожу в воскресенье. Отпросился. Родители были очень удивлены: "Что это, Андрюша, рано утром в воскресенье, куда ты?" – "Очень кушать хочется, куплю хлебушка", – наврал я. Поехал. Мое разочарование оказалось бесконечным – храм оказался музеем. Я в некоем отчаянии брожу вокруг, жду, когда "Ракета" пойдет назад, и где-то в глубине вижу другой храм, обшарпанный, в отличие от этого, на первой линии стоящего на набережной. И там идет служба. Так я познакомился с тамошним отцом Леонидом, и потом несколько раз к нему ездил, что называется, говеть Великим постом.
Советский Союз – это такая культура интимных записок
И вот он мне и говорит: "Тебе надо в семинарию". И подсказал: "Я тебе дам письмо, там есть доцент Виталий Кириллович Антоник, он ведет Основное богословие, мы дружим, от меня с записочкой придешь".
Это было важно, потому что Советский Союз – это такая культура интимных записок. Сенокосовы дали мне записку к отцу Александру Меню когда-то позднее. Юра Сенокосов тоже человек известный здесь. И вот я приехал, прошу, чтобы ко мне на вахту (там тоже пропускная система) вышел вот этот Виталий Кириллович. Показываю ему эту записку, представляюсь. Реакция его была потрясающая: "Так ты, значит, на философском факультете учишься? Как здорово. Давай, поступай, оканчивай семинарию, будешь здесь мой курс вместо меня преподавать".
Я такого в университетской системе представить себе не мог, чтобы профессор какому-то незнакомому парнишке сказал, что вместо меня будешь преподавать. "Я-то сам по образованию биолог, мне вся эта философия не очень интересна. Я польский язык знаю, я белорус, мне интересно католичеством заняться, а Основное богословие – не мое".
И он повел меня к ректору. А ректор решил дать мне некий испытательный срок. Дело в том, что параллельно со мной, в том же году, но чуть позже, я привел к ректору познакомиться (он меня просил, когда принял меня, чтобы я каких-то молодых людей других привел, из университетской среды, кто желает с церковью связать свою жизнь) Тёму Гайдука, который сейчас известен как протоиерей Артемий Владимиров. Именно он на днях устроил скандал по поводу рассказов Бунина и Чехова в школе средней. Он – выпускник филфака МГУ. Вот его сразу ректор взял преподавателем, потому что это филологический факультет, он нейтральный.
У попов профсоюза не было, но одно из средств советского контроля над церковной жизнью было по профсоюзной линии
А у меня философско-атеистический, тут сразу было нельзя взять. И он предложил мне вступить в профсоюз. Я был членом профсоюза, но работников Высшей школы, а теперь написал заявление: "Прошу принять меня в "Профсоюз работников местной промышленности и коммунального хозяйства". Потому что оформили меня в качестве вахтера. Дело в том, что у попов профсоюза не было, но одно из средств советского контроля над церковной жизнью было по профсоюзной линии. Считалось, что попы – буржуи, эксплуататоры, поэтому нельзя их оставлять один на один с нашим рабочим классом. Если кто-то и вынужден у них работать истопником или шофером, обязательно он должен быть в нашем советском профсоюзе. И я был оформлен как вахтер.
– Коммунальное соборное хозяйство. Собственно говоря, близко.
– Просто вахта моя оказалась не на улице, а в кабинете у ректора. Я-то полагал, что реально буду вахтером. Но ректор, умный человек, он понимал, что для того, чтобы такого, как я, фрукта взять в церковную жизнь, необходимо, чтобы ко мне привыкли, в том числе и досматривающие органы, и поэтому посадил меня на самое видно место, не прятал на заднем дворе – вот он, привыкайте.
Я показал, что я вполне советский человек, советский верующий
Он устроил мне экзамен простой. Это было начало ноября, когда я к нему пришел, и первое задание – напиши поздравительную телеграмму с Днем Октябрьской революции на имя градоначальника Загорска. Пожалуйста, я написал, дело нехитрое. В данном случае это была проверка, не упрусь ли я рогом и не скажу: за что? Это революция, поздравлять с ней? Я показал, что я вполне советский человек, советский верующий, кесарю – кесарево, если надо, то что ж? Знаете, православие – это особая культура, здесь разрешается врать. Культура комплимента, культура лести – это часть православной культуры. То есть заповедь "не лжесвидетельствуй" – это не клевещи, не говори, чего не было, о человеке. А вот сказать девушке, что она самая красивая в мире на день ее рождения, – можно, сказать начальнику, что он самый галеристый раб на галерах наш, – тоже можно, или архиерею, что вы, Владыка, просто ангел нашей церкви, без вас тут картошка бы не росла, без ваших молитв.
– Гибкая вера – православие.
– Я думаю, что это не только в православной культуре, но во многих других. Поэтому поздравить с праздничком – написал. И вот я полгода сидел в приемной у ректора, рассказывал ему: кто пришел, кого принять, кого отфутболить, иногда поручал отвечать на какие-то письма трудящихся, когда какой-нибудь молодой человек просит принять его в семинарию, издалека пишет, спрашивает, какие там условия, надо что-то ответить ему. Так прошли эти полгода.
– Вот что интересно. Не знаю, спрашивали ли вас когда-нибудь об этом, но в биографии в интернете написано следующее: "В 1988 году Андрей Кураев был приглашен на диспут в Коломенский педагогический институт, где профессиональные атеисты были легко побиты каким-то семинаристом". По результатам диспута, вот дальше интересные слова: "Московский обком КПССС вынес специальное постановление о неудовлетворительной постановке атеистического воспитания в Коломенском пединституте", и дальше, просто не знаю, как к этому относиться, "и пролоббировал отправку Андрея на учебу в Румынскую православную церковь". Ну, напрашивается легенда-прикрытие. Обком КПСС заслал его разведчиком в Румынию. Почему не задавили Андрея Кураева? Почему ему дали такую путевку в мир еще большей свободы, интеллектуальных неконтролируемых идей и познаний? Как вы прокомментируете это?
– Сама по себе эта история – это 1988 год, февраль. С одной стороны, с неким тщеславием могу сказать, что это была первая со времен Луначарского публичная дискуссия, публичная миссионерская проповедь в советской России. У отца Александра Меня первое публичное выступление было в мае 1988 года, а я на пару месяцев раньше начал, немножко, может быть, не рассчитав, в том смысле, что тогда с каждой неделей, с каждым месяцем оттепель все громче трещала, ледоход начался в политике, в культуре, и я думаю, что в церковной политике государства что-то начало меняться. Эта область была еще очень заморожена, подморожена, там лед треснул только летом 1988 года, когда Тысячелетие праздновали.
Если ты хочешь быть в Академии, чтобы рядом с Кураевым тебя не было видно
Встреча была в Коломенском пединституте, актовый зал переполнен, несколько часов шла дискуссия. Всем было вполне очевидно, что победа не то что по очкам, а полный нокаут на моей стороне. Было постановление обкомовское по поводу плохой постановки работы. А потом уже по линии не обкома, а Совета по делам религии и КГБ, первая реакция – вычистить вон. Меня уволили, моим однокурсникам прямо говорили (а это выпускной курс семинарии был), что "если ты хочешь быть в Академии, чтобы рядом с Кураевым тебя не было видно". Путь в Академию, мне объявляли, будет закрыт.
Но уже в это время ректор Академии предложил такое решение моей проблемы: давайте не вашим и не нашим, чтобы он здесь не развращал молодежь своими речами, отправим его в заповедник сталинского Советского Союза. Румыния эпохи Чаушеску – это вполне сталинский заповедник. И там, под двойным колпаком, пусть он тихонечко доучивается.
Первым я об этом узнал от чекистов. То есть чекист официально, с корочкой капитана КГБ, пришел ко мне домой, когда я еще только подавал документы в семинарию в 1986 году. И вот на этот раз он тоже, как бы случайно, встречает меня в Лавре. "Андрей Вячеславович, а как бы вы отнеслись к перспективе учиться за границей?" Я говорю: "Естественно, любой студент мечтает об этом. А какие варианты?" – "Сейчас готовится группа студентов поехать в соцстраны православные – Югославия, Болгария, Чехия, Польша, Румыния. Вы согласились бы?" – "Да, это интересно". – "А куда бы вы хотели?" – "Для меня Чехия, вы, наверное, знаете, родная страна, в Болгарии несколько раз бывал, мне очень нравится. Так что я бы туда или туда". – "Хорошо, мы это учтем".
Учли в том смысле, что ни то, ни другое не дали, естественно. Вот в Румынию послали вместе с моим одноклассником.
– Как же объяснить после возвращения из Румынии такой феноменальный вертикальный взлет? Вы с 1990 по 1993 год работали референтом патриарха Алексия Второго. Референтом!
– Референтом, пресс-секретарем и спичрайтером. В те времена это еще не различалось никак.
– Это из пушки на Луну прямо.
– Ну, было логично. Во-первых – революционное время. В 16 лет командовать полком – самое оно. То есть сегодня ничего подобного быть в принципе не может. Второе – новый патриарх. Я ведь, собственно говоря, из Румынии сам попросился назад. Я на каникулы приехал, иду к ректору, говорю: "Владыка, многое изменилось, у нас новый патриарх (патриарха избрали в начале июня 1990 года), новый глава внешних церковных связей Кирилл (нынешний патриарх), новый глава Совета по делам религии. Политическая ситуация в стране… Я могу вернуться, здесь доучиваться, потому что образование у нас лучше, чем в Румынии". И ректор говорит: "Пожалуй, да, вы правы, я поговорю с патриархом". И потом говорит: "Давайте, возвращайтесь, я думаю, мы вас восстановим на третьем курсе в Академии (я два года окончил в Румынии), параллельно будете что-то преподавать в семинарии или, в крайнем случае, сотрудником библиотеки оформим". Я говорю: "Прекрасно!" В ту пору меня вопросы денег не интересовали. Отец на пике своей карьеры, он в "Политиздате" работал тогда, деньги в доме были какие-то, на еду хватало, а о большем мы и мечтать не могли. Желания были самые маленькие, в общем. Поэтому я согласен был на все, чтобы в родной Академии побыть.
Тут с патриархом я поговорил – он собирает свою команду
А когда я отучился две недели, ректор мне говорит: "Тут с патриархом я поговорил – он собирает свою команду". Штука в чем? У Алексия, когда он стал патриархом, не было своей команды. Он из Петербурга, Таллин далеко, Таллин уже почти заграница, с московский пропиской огромная проблема, чтобы перевести человека. Все, кто работали на предыдущего патриарха, у него очень непростые с ними были отношения, с тем же Кириллом.
Первая фраза, которую я сказал патриарху, – "нет, Ваше Святейшество"
И поэтому нужны были какие-то новые люди, не засвеченные, которые раньше ни на кого в церкви не работали, достаточно молодые москвичи. И тут ректор предлагает: "У меня есть молодой человек с университетским образованием, с опытом жизни и работы за границей, москвич, может писать, попробуйте его". И ректор мне говорит: "Как раз сегодня патриарх служит здесь, в Лавре. Он тебя ждет. Подойди к нему". Я подхожу. Патриарх говорит: "Говорят, вы умеете писать". Я говорю: "Нет, Ваше Святейшество, я пишу от лености – когда надоедает сто раз одно и то же повторять людям, я сажусь писать". То есть первая фраза, которую я сказал патриарху, – "нет, Ваше Святейшество". То есть я с ним не согласился, и вот в этом русле мы так дальше и работали.
– Ну, скромный сын.
– Он дал мне задание первое, пробное – написать предисловие от его имени к какому-то альбому по русской иконописи. Я это сделал, принес, ему понравилось. Подписал. Говорит: "Ну, приступайте завтра, приходите на работу в патриархию".
– Испытательный срок?
– Нет, уже на работу. Испытанием было написать эту статью. Я прихожу на работу, иду к патриарху в кабинет получить новое задание, и вот мое первое официальное задание оказалось написать телеграмму соболезнования по поводу убийства отца Александра Меня. Его в этот день убили.
– Ух ты! А вы, я так понимаю, были знакомы с отцом Александром?
– Да. Несколько раз был у него в доме.
– Что вы скажете об этой фигуре? Простите, так на лету, по касательной такой вопрос задавать, конечно, нелепо. И все-таки?
– Это был дар божий для нашей церкви, нашей страны, нашей культуры. Правильно Аверинцев про него сказал, что это "миссионер для племени московской интеллигенции". Так оно и было.
– Аверинцев подчеркнул некоторую светскость Меня в этом или что?
– Нет. Во-первых, миссионер всегда должен быть более светским, чем обычный батюшка или, тем более, монах. Миссионер стоит на границе двух миров, поэтому должен говорить убедительно для нерелигиозных людей. Миссионер должен говорить на языке тех людей и использовать имена тех авторитетов, которые не в церкви авторитетны, а именно в среде этого племени. Для меня это означало, что он должен цитировать не Иоанна Златоуста и Григория Богослова, а Бродского и Пастернака, что он и делал вполне успешно. Естественно, есть всегда опасность для миссионера слишком адаптироваться к своей аудитории, слишком поддакивать ей, не оспаривать тех или иных ее увлечений. У отца Александра такое тоже бывало, когда он слишком "батюшкой-да" бывал.
– Можете ли вы сказать, какое почувствовали вы отношение у патриарха к отцу Александру Меню? Я понимаю, что это один из священников РПЦ и так далее, это понятно все на внешнем уровне. А вот внутренне было ли расположение у патриарха к Меню или там какие-то кошки бегали?
Это некий слух, миф созданный, о том, что отец Александр такой священник-диссидент
– Не думаю. Это некий слух, миф созданный, о том, что отец Александр такой священник-диссидент.
– Миф?
– Да. Потому что, во-первых, чисто статусно, чисто формально, по звездочкам на погонах, у него были все возможные награды для священника. Скажем, я своей первой священнической награды ждал двадцать с лишним лет. От дьякона до протодьякона. У отца Александра была в том числе и митра – высшая награда священника. Второе: он практически всю свою жизнь служил на одном подмосковном приходе. Этого очень трудно добиться, потому что священников тогда тасовали по приходам, это была и кадровая политика советской власти, чтобы не врастал. Поэтому постоянно на чемоданах, с семьей, с детьми, и лети по всей области, а то из области в область. А у него, в этом смысле, жизнь благополучная была.
– Это привилегированный знак?
– Это знак привилегированный. Понятно, это значит, что митрополит Ювеналий, глава этой подмосковной епархии, и патриархия явно его защищают, огораживают от такого избыточного давления. Есть разные конспирологические догадки о том, почему советская власть на это пошла, понимая, что это человек необычный. Я в 80-е годы встречал такое мнение, что, дескать, это специально КГБ держит два фонарика – отца Дмитрия Дудко и отца Александра Меня, чтобы, как мотыльки, слетались одни на такого патриотического склада, диссиденты церковные, а другие, напротив, диссиденты либерально-церковного склада слетались. И, чем их ловить поодиночке, лучше отслеживать и контролировать эти собрания. Это не означает, что эти священники для этого трудились и это имели в виду. Они чисто исполняли свой пастырский долг, каждый, как мог.
– Мы редко понимаем, как нас используют другие.
– Дальше. Те мысли, которые высказывал отец Александр, могли казаться немодными в 90-е годы каким-то церковным кругам, но они абсолютно соответствовали официозу Московской патриархии. Он же несколько статей опубликовал в "Журнале Московской Патриархии" под псевдонимом. То есть какие-то экуменические идеи, симпатии к другим религиями, это была официальная линия. Со времен митрополита Никодима, 1960-80-х годов, это официальная экуменическая линия Московской патриархии. Так что в этом смысле никакого особого диссидентства не было. Было разнообразие. Ювеналий, а до этого Никодим с симпатией к отцу Александру относились, по-своему Питирим, он опасался его публиковать, но иногда заказывал, у него такая сложная игра была, у Питирима.
Не любил отца Александра Меня, пожалуй, один архиерей – митрополит Ленинградский Антоний Мельников, которой после смерти Никодима был назначен на питерскую кафедру. Он возглавлял редакцию "Богословских трудов". Было два периодических издания – ежегодник "Богословские труды" и ежемесячник "Журнал Московской Патриархии". И вот у Антония Мельникова такой консультант-богослов, это был Николай Константинович Гаврюшин, нынешний профессор Московской духовной академии. А тогда – сотрудник Института истории естествознания и техники Академии наук.
90-й год, сентябрь, страна на ладан дышит, и уж точно не отец Александр Мень ее разваливает
И вот именно Гаврюшин написал памфлет против отца Александра Меня, с выражениями, что это постовой сионизма и так далее, и пустил в самиздат такой правоцерковный за подписью "А.М." с шепотом, что это митрополит Антоний. Знающие люди и до этого знали, что Гаврюшин пишет тексты для митрополита Антония, такие, разоблачающие ересь. Скажем, в "Богословских трудах" появилась в середине 80-х годов статья за подписью "А.М." по поводу ереси софиологии, против Флоренского и Булгакова. А глава редколлегии, на первой страничке – Антоний Митрополит. То есть это прочитывалось довольно легко. И здесь это подметное письмо стало ходить, и до сих пор очень многие интернет-пользователи цитируют это как слово митрополита. Я не уверен, что Антоний имел хоть какое-то отношение к тому письму, но это текст Николая Константиновича Гаврюшина.
– Ваша версия убийства отца Александра Меня?
– Она будет очень нетолерантная и непопулярная. Если уж искать там политику… Может быть, действительно, чисто бытовое недоразумение, но если искать политику, то точно не КГБ. КГБ от этого ничего не получил. 90-й год, сентябрь, страна на ладан дышит, и уж точно не отец Александр Мень ее разваливает. И зачем создавать проблемы на пустом месте и кого-то убирать? Там проблемы с Ландсбергисом, или где-то в Грузии, в Азербайджане, с народными фронтами во всех республиках. КГБ ничего не получал от этого, никаких бонусов, только сплошные минусы, потому что тут же волна поднялась, что, видите, священников в Советском Союзе убивают, да еще и еврея. Так что я убежден, что это не КГБ.
Этих людей с топором в руке представить совершенно невозможно
Второе: я убежден, что никакие не церковные радикалы. Их просто не было. То есть сегодня я не поручусь, сегодня и я получаю угрозы, в том числе и физической расправы. Всякое бывает. Сегодня другая церковная жизнь, чем в конце 80-х годов. 90-й год – это 80-е еще годы. Тогда не было всяких православных активистов, боевиков и так далее. Атмосфера была другая. Опять же, самые радикальные идеи отца Александра были вполне в русле официального патриархийного богословия и публицистики той поры, а какие-то диссиденты были, какой-то Капитанчук, например, отец Дмитрий Дудко. Но этих людей с топором в руке представить совершенно невозможно. Все-таки это были люди, которые в ту пору еще очень тесно ощущали свое родство и реально прошедшие опыт гонений, поэтому представить их в роли палачей совсем немыслимо, вряд ли они тогда мечтали бы об этом. Есть, конечно, известная фраза, что "в концлагере моей мечты надзиратели будут евреями". Очень легко, конечно, палачи и жертвы меняются местами, но не с такой скоростью. Поэтому я думаю, что предполагающаяся месть православных фундаменталистов – нет. Тогда они были еще вегетарианцами.
– Как, по-вашему, велика ли роль искусства в зарождении веры в человеке? Музыка, например. Мы ведь так часто восклицаем, послушав что-то, что нас охватило и потрясло: "Божественная музыка!".
– И да, и нет. Пути к вере очень разные. Есть путь через культуру, искусство, есть путь совершенно мимо этих вещей, через личные беды в том числе. Есть путь через других людей, через их слово, дело. Есть путь просто через мысль. Что касается пути к религии через искусство, то в нем есть свои соблазны. Слишком легко жонглировать омонимами, один из них вы произнесли, когда "от Бога", "с неба", "дар свыше", и чисто земные человеческие вещи этим называются. Удачный подбор нот или красок. То есть вещи чисто душевные, но отнюдь не духовные.
– А разве они не настолько потрясают человека, скажем, Бетховен, что человек переживает что-то, может, даже не омонимически сродственное с божественным, но действительно начинает постигать что-то, что ему никак не могло быть открыто, если бы он просто смотрел на нотную грамоту. Сыгранная музыка, явленная ему в своем звуке, музыка, которая потрясает все его основы, чувства, мысли, переживания, воспоминания, представления, – разве это не есть нечто, что заслуживает быть приравненным к религиозному чувству? Разве от искусства нет катарсиса совершенно религиозного?
– Это – другой вопрос, о катарсисе. Катарсис может быть уместен. И вообще, человек должен уметь причинять самому себе боль. И через серьезную музыку, через Бетховена, через "Реквием" Моцарта, через Баха, через Шнитке это можно делать. Но это всего-навсего вспахивание борозды. А еще вопрос, какое семя туда попадет, в эту открытую борозду, а затем – взойдет ли оно на этой почве? Поэтому приравнивать это к религиозному пробуждению еще рановато.
– А религиозное пробуждение, по-вашему, это высшее пробуждение?
– Да.
– Религия выше искусства?
– Да.
– Почему?
– Религия – это то, что выводит за рамки искусства. Мир культуры, мир искусства, это мир человека. Духовность, в религиозном лексиконе, это сила притяжения Бога, это то, что выводит человека за рамки его тождества с самим собой, за рамки чисто культурных, межчеловеческих отношений. Был такой замечательный человек, в миру – князь Иоанн Шаховской, в церкви – архиепископ Сан-Францисский, тоже на какой-то из радиостанций он работал.
– На "Голосе Америки".
– Он в юности был замечательный молодой поэт, литератор, друг Марины Цветаевой, в эмигрантском Париже конца 20-х годов у него был свой журнал.
– В Брюсселе. "Благонамеренный".
– И вот он все бросил, ушел на Афон, принял монашество. И спустя год он так объяснял свой поступок, почему он, успешный, состоятельный и состоявшийся человек бросил все. Говорит: "Я заскучал в своих правдах и захотел истины". Можно вспомнить историю царевича Гаутамы Будды, в чем-то похожую, когда есть все и это все мало. Это и есть первое проявление духовности – тоска по Богу.
– А для вас все равно, во что верует человек, в какого Бога, какой он религии, в какую церковь он ходит? Сам факт религиозности человеческого сознания не достаточен ли для вас, для того чтобы признать такого человека высшим?
– Видите ли, мы с вами беседуем в дни, когда реальность нам показывает, что это не все равно, потому что в зависимости от того, какое у тебя представление о Боге, так ты будешь мыслить и о людях, и о себе самом, в том числе о ценности, значимости и цене их жизни и их смерти.
– Вы имеете в виду то, что как раз в упомянутом Брюсселе недавно и произошло?
– Да. Поэтому, зная и современность, и историю религии, мои знания (не догматическая вера, а мои знания) не позволяют мне сказать, что главное – какую-то религиозность иметь, а наполнение этого чувства, стремление – не важно. Я думаю, что важно.
– А что для вас, верующего человека, значит интернет? Какой историко-мистический смысл интернета? И можно ли увидеть в теологических вопросах, в вопросах вечности, вопросах жизни и смерти какую-то специфическую роль интернета? Вот когда я задумываюсь над тем, что он вдруг явил человечеству, он не просто, как мне кажется, заменил библиотеку знаний, но он позволил и людям, далеко стоящим от тебя, от своих друзей или от своих врагов, мгновенно получить некое знание, которое сразу, не так, как в библиотеке, а вот на одной странице, на экране монитора выстраивает портрет человека с его прошлым и с его настоящим. То есть интернет позволяет о человеке судить как о целом. И не есть ли интернет, в каком-то смысле, извод понятия Страшный суд? Теперь уже никуда нам не уйти, потому что все нами созданное, написанное, произнесенное, все наши поступки – они теперь все как на ладони на этом экране, и не есть ли это метафора такого Страшного суда? Или я что-то богохульственное произношу?
Из любого материала можно соорудить притчу. Христос это делал из жизни купцов, рыбаков и земледельцев
– Во-первых, язык богословия – это всегда язык притчи и метафоры, поэтому из любого материала можно соорудить притчу. Христос это делал из жизни купцов, рыбаков и земледельцев. Поэтому нет ничего в том, что из жизни космонавтов или интернет-пользователей тоже можно составить хорошие богословские тексты и притчи, в том числе на тему Страшного суда. Однако же у меня главное впечатление от интернета ровно противоположное. Интернет – как некая опасность расчеловечивания. То, что я вижу у себя в блоге ежедневно. Когда люди прячутся за масками, за никами. Несколько иначе в "Фейсбуке", где требуется четкая идентификация по имени и фамилии. А вот, скажем, в "Живом Журнале", там написал любую абракадабру, какой-то "найк 785", и под этой абракадаброй ты выходишь и начинаешь гадить в чужом журнале, хамить откровенно. Это бывает. Здесь я честно говорю, что я отношусь к юзерам как к юзерам, но не как к людям. Если вы анонимно зашли ко мне в "Журнал" и хотите быть представлены этой репликой, вы для меня тождественны этой реплике. Поэтому, если я нахожу ее хамской и неуместной, то вас тут не будет, в пространстве моего личного блога. С человеком так нельзя. Человек сложнее своего текста, человек сложнее своей сиюминутной реакции. Человека нельзя вычеркивать из жизни, а вот анонимного юзера из своего блога можно удалить.
– Это сатана, что ли, пришел?
– Нет, это ролевые игры. Человек хочет в такой роли, с такой маской у меня появиться. Я же не вычеркиваю его из жизни. Хочешь – гуляй, интернет огромный, миллионы блогов.
– Вы с интернетом дружите сильно?
– Нет. Я там работаю, это не дружба. Это далеко не всегда приятственно.
– Есть положительная сторона в интернете?
– Да, конечно. Это и библиотеки, и поиск информации, и возможность проверять, особенно сейчас, когда нужно уметь взять дистанцию от пропагандистских запущенных машин, проверять информацию, фейки и так далее.
– Отец Андрей, вы – автор учебника "Основы православной культуры" в школе. А как вы относитесь к тому, что православие явно вытесняет, хотя и не громогласно, вроде бы и не официально, но, тем не менее, практически в восприятии людей вытесняет основы других религий? Существует ли в школе, наравне с вашим учебником, учебник "Основы иудейской религии", даосской, мусульманской?
– Ситуация ровно обратная. Я неоднократно слышал от лидеров других религий России, что, когда к ним такие вопросы адресуют, они говорят, что положение обратное, потому что когда большая Русская церковь куда-то открывает дверь, то и мы вслед за ней можем в это пространство войти.
– Это чисто прагматическое рассуждение?
– Но оно реальное. Патриарх договорился с президентом Медведевым, что в школах будет курс "Основы православной культуры". Соответственно, там оказался курс не только этот. Родителям предлагается выбирать в конце 3-го класса обучения их детей на следующий год, на 4-й класс, из пяти учебников, из пяти вариантов. Учебников гораздо больше. То есть здесь двойной выбор. Первый выбор – семьи. Семья может сказать: или это основы православной культуры, исламской, иудейской, буддисткой, или же это будет курс вообще по мировым религиям, или же это будет курс "Светская этика", без упоминания религии. А дальше педагог может выбрать учебник, потому что, естественно, масса издательств, коллективов, авторов, которые десятки разных вариантов на эту тему написали. И уже по истории, литературе, математике педагог может выбрать учебник для своего класса, с каким ему интереснее работать. Поэтому даже если в каком-то классе избрали "Основы православной культуры", это не значит еще, что по моему учебнику будут работать.
– А есть такие случаи, что учитель вообще отказывается брать учебник по православной культуре? Отказывается от преподавания в школе этого предмета в целом? Были такие случаи?
В этом углу – иудеи, а здесь – мусульмане… А в центре – наши боевые православные
– Когда только этот проект начинался, именно патриархия настаивала на том, чтобы у педагога было такое право. Чтобы и педагог мог выбирать, какой из этих пяти модулей он будет преподавать. Министерство просвещения и образования заняло другую позицию – нет никакого выбора. Мы же не говорим, что учитель литературы не любит Маяковского, поэтому имеет право его не преподавать. Поэтому и Лермонтова, и Блока, и Маяковского, и Пушкина ты должен вести. И Министерство образования заявляло, что мы дадим на переквалификации такую подготовку всем педагогам, вовлеченным в этот проект, что они должны будут в состоянии любой из пяти модулей вести. Буквально на днях я был на родительском собрании в одной московской школе и узнал там жуткую вещь, что они там эти модули преподают на одном уроке. То есть родители проголосовали по-разному…
– В этом углу – иудеи, а здесь – мусульмане…
– Что-то подобное.
– А в центре – наши боевые православные.
– Нет, там ровно наоборот. Там для двоих детей будет православие, для остальных – светская этика. Они это мотивируют тем, что школа старая, в центре Москвы, мало помещений и трудно найти…
– Я вообще не могу представить себе школу, где будут для пяти религий помещения. Это, по-моему, немыслимо.
Отец Андрей, создается не просто впечатление, а прямо факты налицо, что РПЦ выставляет определенные барьеры в обучении, в издании, в продвижении тех или иных имен или идей в российском, вроде бы, нерелигиозном обществе, где церковь, как объявлено, отделена от государства. Я сейчас вас спрошу по поводу отделения, но вот как быть с юбилеем Льва Толстого? С требованием убрать из каких-то обучающих программ некоторые тексты Бунина, Чехова, найти-то можно у кого угодно, "Гаврилиаду" пушкинскую и прочее. У вас создается впечатление, что РПЦ оказывает давление, что она есть игрок на этой вроде бы нерелигиозной светской арене?
– И да и нет. Потому что приведенные вами предполагаемые факты этого никак не доказывают. В то же время интенция такая – да, это правда. Я бы, может быть, несколько лет назад с вами активнее полемизировал на эту тему, но после того, как по инициативе патриарха, изъявленной через администрацию президента, меня уволили из МГУ, у меня с той поры честности не хватает говорить: что вы, что вы, у нас церковь не претендует на государственный статус, чтобы церковь вмешивалась в дела государства, и так далее.
– Вы уже сказали, что православный человек спокойно может и солгать.
Вы уже сказали, что православный человек спокойно может и солгать
– Солгать, в смысле льстить комплиментом, а не в смысле искажения реальности. Жанр комплимента – это отдельная вещь, жанр панегирика. А жанр хрониста – это другое, хронистам ложь не разрешалась.
– Хорошо, как все-таки со Львом Николаевичем?
– Вот мы с вами знаем, что сейчас ставится новая экранизация "Анны Карениной". И что, церковь как-то возражает? Нисколько. Это слухи насчет того, что церковная епитимья на Льва Николаевича Толстого.
– Очень много было в обществе в 2010 году, когда отмечалось столетие со дня смерти писателя, разговоров о том, что в РПЦ подняли бровь и решили, что нежелательно на телеканалах продвигать, слишком много говорить об этом отлученном от церкви человеке.
– До меня никакие такие брови, интонации и слухи не долетали, хотя в 2010 году я был еще в обойме патриархийных спикеров. Постоянно журналисты ко мне обращались: а может ли быть снята анафема со Льва Николаевича, и так далее.
– А, кстати, об анафеме? Почему не снять?
– Причина очень простая. Все возможные средства к этому находятся в руках профессиональных архивистов, литературоведов, знатоков жизни и творчества Льва Николаевича.
– Поясните, пожалуйста, для непонятливых.
– Дело в том, что, наверное, есть принцип, с которым мы с вами заведомо согласимся, – не должно быть религиозного насилия над человеком.
– Полностью согласен.
– Если человек не хотел, чтобы попы шаманили над его останками, зачем навязываться? У человека есть право выбора образа своего погребения, ухода из этой жизни. Если Лев Николаевич не хотел, чтобы рядом с ним в это минуту пиарились попы, то как мы можем навязаться, быть незваными на чужом событии? Поэтому надо выяснить, чего хотел Лев Николаевич в тот момент своей жизни. Его судьба очень сложна, жизнь богатейшая, были разные периоды – и влюбленности в православие, и конфликта с ним. Что в итоге? Какова его последняя воля? И вот, если вдруг выяснят, найдут секретные дневники или вызывающие доверие мемуары, скажем, детей Черткова, его секретаря, в которых он рассказывает, что на самом деле это он, от имени Льва Николаевича, прогнал вон Оптинского старца Анатолия, который поехал к нему на станцию в надежде на последнюю предсмертную встречу (это же вполне возможный вариант, потому что Лев Толстой – это уже больше чем человек, в последние годы своей жизни это лидер определенного общественного движения, определенные идеи с этим связываются, Чертков ощущает себя наследником, и ему очень не хотелось бы, чтобы вдруг, в последнюю минуту, героизированный им идеолог вдруг по какой-то очень важной позиции сдал и строимая империя нового духа была бы разрушена). Интерес у него, несомненно, был удержать Льва Николаевича на дистанции от церкви, может быть, вопреки предсмертному порыву души.
– Несомненно, он пытался удержать Льва Николаевича на определенной дистанции не только от Русской церкви, но и от семьи.
– И если выяснится, что все-таки здесь было не две воли, пусть слабая, но согласная с Чертковым воля Льва Николаевича уходящего, а если будет доказано, будут найдены какие-то аутентичные, достойные доверия мемуары, секретные дневники, записные книжки и будет доказано, что здесь имело место насилие со стороны Черткова, тогда для церкви это будет огромная радость – возгласить вечную память и отпеть Льва Николаевича по церковному обряду.
– И после этого Льва Николаевича на службе придают анафеме. – Это сказки! Это купринские сказки
– Но как-то странно получается, отец Андрей, – церковь ждет неких формальных уверений, формальных доказательств, мелких фактов. Не Лев Толстой самоотрекся от православной церкви, а это был акт насильного отречения его.
– Что за сказки? Синод всего-навсего подтвердил то, что до этого Лев Николаевич говорил. Он сам о себе говорил, что я не считаю себя православным человеком. Синод с ним согласился.
– И после этого Льва Николаевича на службе придают анафеме.
– Это сказки! Это купринские сказки.
– Как?
– Так. Не было этого.
– Никогда его не предавали анафеме?
– Никогда. В газетах было опубликовано, оно кончалось не возглашением анафемы, там слова этого не было, там концовка – обращение Синода. Мы увещеваем Льва Николаевича, надеемся, что все-таки он изменится, покается. В храмах никогда не было. Это был фейк. Купринский талантливый, но фейк, рассказ "Анафема".
– Зуб даете?
– Да, оставшиеся. Их немного, но даю.
– Хорошо, а РПЦ не зайдет так далеко (ведь явно ей оказывается режим наибольшего благоприятствования в сегодняшней России), что она будет указывать, что нам читать в школах, в институтах: вот это нельзя, это греховно…
– Очень хотят указывать.
– А зачем она это делает?
– Вы поймите, это обычная вещь. Любой человек, когда вы поместите его в вакуум и скажете, что все твои делания сейчас будут исполнены, это же огромное умение остановиться перед чужой свободой, чужой ошибкой, то, что я считаю ошибкой, не навязаться. Это очень трудно, это даже не зависит от убеждений. Идеология религиозная, не религиозная, политическая. Поэтому обществу должно быть сложным, система сдержек и противовесов должна быть. Я как человек, который всю жизнь провел в церкви, я говорю: не обманывайтесь, не надо думать, что церковь отлична от большевиков и не повторит их ошибок, если дать ей полноту власти. Все мы люди, инфекции в наших сердцах, подметках и языках одни и те же. Поэтому не надо никому безоглядно доверять. "Берите наших детей, церковь плохому не научит". Любимый мем был в 90-х годах, что церковь плохому не научит. Научит. К сожалению, научит.
– Скажите, в вас рождается возмущение, когда вы слышите, что нельзя нарушать или полагается уважать права верующих? А как быть с правами неверующих? Меня, например, оскорбляет, когда задевают чувства верующего, – но почему никого не задевает, когда оскорбляют мои убеждения? Вот, скажем условно, я атеист, неверующий, мои атеистические чувства "оскорблены" количеством церквей, вот всеми этими крестами бесконечными, которые торчат и мозолят мне глаза. Я "оскорблен" этим. Почему здесь вдруг такой пошел перекос?
– Если человека оскорбляет вид чужих для него религиозных символов – это плохо воспитанный человек, это диагноз его семье, школе и ему самому, прежде всего.
– Не о воспитании же идет речь. А я вспоминаю всю поповщину двух тысячелетий.
– Опять это вопрос к школе и так далее, почему такие ассоциации у человека. А меня оскорбляет, когда слышу немецкую речь, потому что очень легко составить ряд от псов-рыцарей до гестапо, почему у меня с немцами такая ассоциация.
– Вы совершенно правы, но давайте тогда туда верующих в этот ряд поместим. Они точно так же должны терпеть, когда кто-то не согласен с их чувствами.
– Я думаю, что если кто-то начнет от своего имени сегодня читать стихи Эренбурга про немцев – "сколько раз его увидишь, столько раз его убей", – я думаю, что самое не немецкое, самое светское государство скажет, что это немыслимо совершенно.
– Поэтому я думаю, что решение – в светскости, в том, чтобы убрать религиозные вопросы из жизни светского общества.
– Нет, убирать их оттуда не надо. Проблема в том, что мы живем в двух разных мирах, которые вдобавок еще и два эскалатора, которые в разных направлениях едут. Россия и западный мир. Когда речь идет о западном мире, тут, действительно, я согласен с патриархом Кириллом, когда он говорит о заботе о правах нехристиан в западном мире. Это есть. Здесь [на Западе] сегодня избыточная, странная толерантность, которая направлена на вычеркивание любых знаков присутствия христианства. Это есть.
А в России – несколько иначе. В этом есть лукавство пропаганды современной патриархии. Когда показывают какие-то экстремы из западной жизни, а затем говорят: вот видите, и мы в России с этим боремся. Простите, с этим надо бороться в Канаде и США, но не в России. В России другие опасности. У соседа может быть язва от повышенной кислотности, а у меня – от пониженной. Поэтому мне не с язвой соседа надо бороться, а с тем, что у меня. А у нас начинается: вот там, на Западе, засилье пидарасов, мы должны против гей-Европы бороться. Простите, с чего вы взяли, что Россия должна бороться против того, что происходит где-нибудь в Дании? А у нас в России ничего такого нет? "Такого" – в смысле грехи вопиющие к небу, типа коррупции, взяточничество. Нет же, мы будем бороться с проблемой соседа.
– А ведь у многих создается впечатление, что РПЦ, вообще православие – это новый коммунизм, КПСС на сегодняшнем этапе: она непогрешима, она всюду, ей все преференции, и скоро кадение и литургия будет слышна из каждого люка.
– Может быть. И все-таки перед вами сидит очевидный аргумент против этого. Пока я действующий диакон РПЦ, довольно активный публицист, и пока мои самые большие неприятности – это то, что церковные издательства не стали меня издавать. Или в Академии не дают читать лекции. Но служить – служу, сана никто не лишил меня, блог не закрыли, даже с массмедиа федеральными, кремлевскими мое сотрудничество продолжается: два раза в месяц я бываю на "Эхе Москвы", но два раза в месяц бываю на каком-нибудь прокремлевском Live News или "Русской службе новостей".
– Какой вы двуликий, однако. Как вы отнеслись к невероятному заявлению патриарха Кирилла, который назвал права человека "глобальной ересью" недавно? И сделал заявление об изгнании бога в масштабе всей планеты? Разве человек не венец творения?
Когда об этом говорил митрополит Кирилл – это был нормальный троллинг
– Когда об этом говорил митрополит Кирилл – это был нормальный троллинг. Приглашение к дискуссии. Я могу уважать ваши права, но при этом про себя самого я знаю, что есть нечто более высокое, чем мои права, – это мое служение. Высшая свобода – это свобода для. Это не только Апостол Павел, это и Шопенгауэр, и Ницше, и Высоцкий: "Мне вечера дали свободу, что я с ней делать буду?". То есть человек по-настоящему очеловечивается, когда находит, чему посвятить себя. Это может быть ребенок, старики, наука, спорт, искусство, религия, некая общность группы людей, родина и так далее. Когда находишь сам для себя некую ценность, более высокую, чем я сам, соответственно, я становлюсь луною, которая приемлет это сияние. И самая высокая форма в аксиологии – смысл жизни может придать только то, что придает смысл смерти. То есть если я за что-то готов умереть, это – высшая ценность. И поэтому, когда постоянно идут разговоры только о правах человека, этого недостаточно.
Но вот чего не хватило в той проповеди патриарха? Эту ошибку делаю часто я. Я не проговариваю банальности, я считаю, что не надо тратить время слушателей на то, чтобы проговорить очевидность. Давайте мыть руки перед едой. Давайте этого не скажем, а сразу опишем ресторанное меню. Зачем про руки говорить? И так очевидно. Вот нечто подобное и здесь. Если бы перед этим было сказано, что права человека – это азбука, это само собой разумеется, то, что прописано в Декларации прав человека… Человек – это величайшая святыня, в том числе для христианина, не только для гражданина. Потому что Христос умер за нас, Бог служит людям. Я, например, всю свою жизнь спорю со словами Достоевского, красивые слова, которые покоряют миллионы мозгов своей красотой, которые я считаю глубоко антихристианскими: "Здесь дьяволы с Богом борются, и поле битвы – сердца людей". Потому что у этого образа, невероятно красивого, есть очень нехороший обертон. Получается, что сердце человека – это просто татами, где два суперборца борются между собою. А человек – это, во-первых, активнейший участник этой борьбы, и это такой суперприз, что даже эти суперборцы борются за обладание этой ценностью. Человек – это не подстилка.
– Вы вступаете в интеллектуальное противоречие с заявлением вашего пастыря.
Рядом стоял господин Беглов, представитель президента. Это были царские уши
– А вот после этого уже можно сказать, что угрозу для человека иногда представляет собою сам человек. Мое слишком низкое представление обо мне самом, моей ценности, смысле моей жизни. Человек слишком легко может отождествить себя с уровнем потребителя, который ищет дискаунты какие-то, раствориться в своих низших ощущениях. Сам себя человек может редуцировать до физиологического уровня. Это угроза для человеческого в человеке.
– Но ведь "нищие духом войдут в Царствие Небесное".
– Это другая идеологема, другой язык, другая лексема. Если бы патриарх вот так сказал, я бы с этим согласился. А он сказал иначе. Почему? Я думаю, что потому, что рядом стоял господин Беглов, представитель президента. Это были царские уши. Дело не в том, что я плохо думаю о патриархе, а дело в том, что я референт патриарха был. Я прекрасно знаю, как составляются такие тексты, для чьих ушей. Потому что там есть постоянный фильтр – кто как воспримет, кто какой месседж здесь прочитает, в этом моем тексте, интервью. Не только массовый читатель. То есть если этот текст готовится профессионально, а патриарх Кирилл – очень профессиональный человек, а я – тоже профессионал, и я могу понимать, какие уши и глаза он предполагает, что они с этим текстом познакомятся.
– Хорошо, но вы – миссионер. Как вы теперь ощущаете свой долг? Вы должны возразить патриарху?
– Я и возразил. Две последние публикации в моем блоге – это полемика с этой проповедью.
В православии неважно, какая технология – принтер или кисть художника. Это неважно
– И последнее, о чем я хотел вас спросить. Разрешите мои сомнения вот в какой области. У нас в семье, в нашем роду (мы из другого толстовского рода, мой дед – это советский писать Алексей Толстой, но они смыкаются на уровне министра иностранных дел Петра Первого Петра Андреевич Толстого. Это большой разветвленный род, и, перефразируя Блока, можно сказать, что Толстые все родня друг другу). Так вот, в нашей семье сохранилась икона, идущая от Петра Андреевича Толстого. Эта икона сейчас отдана в музей, и мне всегда хотелось иметь ее перед собою. Не из-за моих религиозных чувств, их как раз практически не было в юные годы, но просто это семейная реликвия, это история, за ней стоит целое приключение, целый рассказ, целая новелла. На ней изображен Святой Спиридоний, покровитель, защитник рода Толстых – всех Толстых, и Льва Николаевича в том числе. Мне для одного дела захотелось иметь копию этой иконы. Но у меня был только файлик, цифровая фотография этой иконы. И друзья в Москве, в качестве шутки, наклеили мне распечатку этого файла, на принтере выпущенного, на доску. Но доску они повторили в точности так же, какая была доска у подлинной иконы, потому что я им показал, как это выглядело. Там же была трещина, там же было немножко обожженное дерево, сзади было крепление такой косой деревяшкой, потому что икона расходилась некогда на две части. Она вообще 1722 года. И я привез эту деревяшку современную, сегодняшнюю, с наклеенной цифровой фотографией, домой в Прагу. И лежала она у меня на полке. Ну, думаю, надо повесить на стенку. У меня ни одной иконы в квартире не висит, пусть будет единственная, не настоящая, но имеющая за собой целую историю. И лежала она, но тут недавно я взял ее в руки, чтобы обтереть пыль, и вот с тех пор я не знаю, как мне быть, – она стала мироточить. Цифровая копия! Отец Андрей, как я должен к этому относиться?
– Во-первых, в православии неважно, какая технология – принтер или кисть художника. Это неважно. Икона становится иконой, когда человек на нее смотрит, и смотрит не взглядом искусствоведа, а взглядом вотативным. Неслучайно часто иконы именно в звательном падеже надписывались: св. Сергие, св. Николае. Именно воля человека, отождествляющего образ и первообраз, это то, что творит таинство иконы. А техника, технология изображения – это совершенно неважно, и я знаю случаи, когда на конвейере Софрино выходящие миллионными тиражами картонные иконки, когда вокруг них происходили чудеса. А бывает, что и самая подлинная Владимирская икона, взятая из Третьяковской галереи, не спасла от вспышки гражданского насилия в 1993 году, хотя с ней торжественный крестный ход патриарх совершил. Поэтому здесь нет никакого автоматизма.
– То есть это не грех – повесить ее в красный угол?
– Отнюдь. Ну, если хотите, отнесите в храм и освятите по всем правилам. Можно еще взять эту копию иконы и приложить к оригиналу хоть на минуточку, чтобы они "встретились и познакомились", скажем так.
– Поцеловать их.
– Но очень интересно, что это образ Спиридона, потому что, по сути, Спиридон Тримифунтский – это человек, который сам по себе образ предельного простеца неграмотного – пастух, овец пас, – и при этом он защищал самый интеллектуальный и по-своему даже непостижимый догмат христианства, догмат Святой Троицы. В чем-то очень толстовский образ – простец, который защищает что-то непостижимое. Вот такая диалектичность этого образа очень интересна, и интересно, что этот образ именно у вашей семьи. И как знать, может быть, кому-то из Толстых поможет найти необходимую простоту, чтобы просто достичь очевидности.
















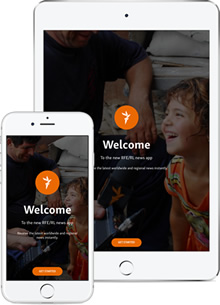

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: